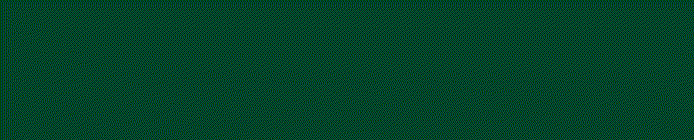Видео
Диалог Михаила Гиголашвили и Александр Мильштейна
Один из нас живёт в Баварии, где сила политика определяется количеством «масов» (литровых кружек), которые он способен выпить. Встретившись с братом по разуму, который живёт совсем в другой земле, он услышал мнение другого о пиве: оно превращает человека в панду.
Несмотря на то что на дарственной надписи «Тайнописи» есть слова «…с которым у нас есть очень, очень много общего». При этом я свою книжку, посылая Михаилу в его Саарбрюкен, забыл подписать, а потом подумал, что подсознательно сделал правильно, мне казалось, что она наверняка ему не должна понравиться, а от неподписанной книги легче избавиться, кому-то подарить, передать дальше по кругу.
Наша беседа, начавшаяся за столом в Мюнхене, продолжилась по телефону и по электронной почте. Речь всегда шла больше о разногласиях, естественно, о них легче говорить, чем о том многом, что действительно оказалось общим.
Потом мы собрали некоторые обрывки этого разговора, перечитали и поняли, что если бы мы вдруг узнали, что нас кто-то подслушивал, мы бы не слишком этого испугались.
МГ:— Саша, с большим интересом прочёл твой роман «Пиноктико». От всего текста у меня остались странно-интересные ощущения зыбкости, мерцания, полусвета-полумрака, переходных состояний, яви-неяви, раздвоенности, щемящей абсурдности бытия, сонности, сонливости, сновидений.
В романе хороший фон, подёрнутый такой общей размытостью, которая как раз и создаёт атмосферу неприкаянности, свойственной многим людям, но поэты чувствуют это сильнее.
Говорю «поэты» в широком смысле: в тексте есть много мест (точнее, фраз) высокой поэтической пробы (своеобразные сравнения, метафоры и т.д.).
Много удачных перекличек с цитатами из мировой литературы, удачно увязаны эпизоды (сквозные линии, возврат к прежним образам и т.д.).
Отличный рассказчик: рефлектирующий тип, в его интонациях — подкупающая доверительность и искренность, хорошо оттеняемая словами типа «не помню», «не знаю», «забыл», «неважно» и т.д.
Словом, рассказчик — троюродный брат Постороннего Камю. Достоевский любил применять этот приём, чтоб читатель домысливал. Так называемый наивный рассказчик, который многого не знает, не слышал, не понял или недопонял, не верит и т.д.
Этот стиль, противоположный толстовскому всеведущему рассказчику-богу, провоцирует читателя на собственные размышления и участие в романе.
Скажи, как ты «набрёл» на такой тип повествования?
АМ:— Не знаю, наверно, просто дал возможность говорить своему внутреннему голосу. Звучит банально, я понимаю, и даже несколько анекдотично, когда-то были такие анекдоты про «внутренний голос», целая серия…
Но не знаю, как точнее сказать. Это по поводу языка, нитяных предложений, из которых соткался этот текст.
Что касается «недопонимания», ну это связано, конечно, со странным происхождением героя, которое для нас является прежде всего метафорой, а для него, ну что ли, более насущной и при этом многомерной… загадкой.
Что касается родственных связей…
Когда я уже написал роман в первом приближении, после чего только что-то правишь, чего-то отбрасываешь, я впервые увидел фильм Герцога «Каспар Хаузер», в оригинале название его: «Каждый за себя и Бог против всех».
Мне показалось, что история моего героя имеет что-то общее с историей Каспара, на уровне сюжета — довольно отдалённо, поэтому я и не боюсь сам упоминать о фильме — никаких прямых аналогий нет.
Просто Йенс находится всё время в таком же примерно положении, как Каспар, когда его неизвестно кто, продержавший с рождения в подвале, выставил на площадь с запиской в руке.
Как, в сущности, и всё человечество, но до таких обобщений мы не будем подниматься или, наоборот, опускаться, скажем ещё только, что в Йенсе, как мне показалось, сконцентрировались ощущения современного человека, которых не было, конечно, у Каспара и более древних предшественников.
Очень приближённо можно назвать это синдромом дематериализации, и происхождение моего героя-рассказчика, и его довольно точно охарактеризованный тобой голос как-то связаны с этим ощущением.
МГ:— Будучи сам по образованию филологом, я со временем стал чураться всякой филологичности в текстах.
Мой отец — филолог, прочитав мои первые рассказы, сказал: «Имей в виду, что твоя сила в изображении, а не в умствовании».
Потом я начал писать диссертацию по Достоевскому (и могу сказать, что черновики и подготовительные материалы Достоевского к романам куда сильнее бьют, чем сами романы), и этот мир так затянул меня, что несколько лет я ничего не писал и не читал, кроме текстов Достоевского, довольно долго, лет восемь.
Потом кое-как сумел отодвинуть эту завесу и вылезти на свет божий. Были опять эссе, размышленции, философизмы, головные вещи. И опять отец мне напомнил о своём совете.
Игра со словом мне самому очень нравится (посмотри, например, вещичку про Венецию в «Крещатике»), но просто не ставлю это во главу угла, потому что в целом для меня важнее, чт? именно говорит писатель, чем ка?к он это говорит.
Хотя форма, разумеется, важна, но меня устраивает и самая лаконичная (не знаю, как ты относишься к Набокову, но я его сразу не принял — настолько он показался мне вычурен, курчавен, с головизной, манерен, неестественен, искусственен после русской классики (кроме «Защиты Лужина» и «Лолиты» — две вещи, где его истинные страсти вышли наружу).
Для филолога же опасность «сползти в голову» повышена — он всю жизнь вращается среди специфической лексики и синтаксиса, и надо иметь много сил, чтобы суметь отодвинуть от себя пласты мировой классики и что-то вякнуть своим слабым голоском…
Обрати внимание: модернизм в живописи привёл к тому, что живопись (прибавив в деньгах, но убавив в сердцах), потеряв своё предназначение (когда художники были равны королям), превратилась в добавку к обоям: «вот тот холстик, где что-то синее с красненькими пятнышками, подойдёт нам в спаленку», или в систему вложения капитала.
Не то же самое можно наблюдать на книжном рынке в той же России, да и здесь, в Германии?..
АМ:— Мда, вечная тема, Набоков и Достоевский... Не знаю, впрочем, всегда ли так будет для меня, но во всяком случае до следующей «инвентаризации» в голове, при которой иногда происходит переоценка ценностей, Набоков для меня лично ближе и важнее, чем Достоевский.
При этом я вовсе не разделяю набоковскую «достофобию», мне нравится читать ФМД, вот совсем недавно перечитал третий раз «Бесы».
Но такого прихода, как от Набокова в его высших для меня проявлениях, я не испытываю. Jedem das Seine, как говорится.
МГ:— Подготовительные материалы / черновики к «Бесам» — вообще улёт.
Будучи эпилептиком, Достоевский знал, что после припадка может забыть всё, что обдумывал годами (а он годами обдумывал сюжеты и композицию романов), поэтому выработал манеру записывать весь потоп-поток своего сознания.
В черновиках он развивает темы, оставляет, варьирует, прикидывает, как могло бы быть, если бы...
То есть это такой модернизм в чистом виде, пресловутая «игра», так полюбившаяся всем в ХХ веке. Все материалы есть в тридцатитомнике.
Мне Набоков попал в руки как-то поздно, позже Достоевского. И снижение проблематики от «жизни-смерти» у Достоевского к «пуговичкам-рюшечкам» у Набокова меня как-то неприятно поразила.
АМ:— Я не знаю другого автора, который столько бы и так писал о смерти, как Набоков. Но ещё раз: я не противопоставляю их. Достоевский для меня тоже важен, конечно...
Вот только знаешь что… Эйнштейн сказал как-то, что больше всего на него повлиял, способствовал появлению его идей не какой-то физик и вообще не учёный, а Фёдор Достоевский.
Ну а мне для создания моей «релятивистской теории» — смайл…
Ну, для создания своей картинки мира, что ли, больше дал, наверно, Набоков и… квантовая механика.
Которую Эйнштейн как раз и не понял (вполне в духе Достоевского, кстати, сам придумав парадокс, который интерпретировал, исходя из принципа «этого не может быть, потому что не может быть никогда») и отверг.
Но это всё совсем уже из другой оперы, конечно. Да, так вот, кстати, интересно, что твою близость к Достоевскому подтверждают критики, когда сравнивают тебя с ним.
МГ:— Я не против Набокова (было бы смешно, как и сравнение критиков, о котором ты упомянул), а против набоковщины, а это разные вещи.
Убеждён, что из Набокова выработался бы социальный писатель типа Тургенева/Щедрина и т.д., но, так как он оказался в чуждой языковой среде, то не стал описывать русскими словами заграничный мир, а углубился в свой собственный — по необходимости, так сказать (писать хотелось, а о чём — неизвестно).
Ну а эпигоны восприняли это как совет и указание…
Он-то мастер, а вот последыши и воздыхатели не всегда на высоте: ощущение, что пишут вилами по воде: раз — и нет ничего, в памяти пустота, хотя воспоминания, как от музыки, могут и остаться, типа «приятно было слушать».
Но литература не музыка, если бы была музыка, то и называлась бы «музыка». Может быть, поэзия и базируется на музыке слов, но проза, на мой взгляд, имеет другие глобальные ориентиры, задачи и цели.
Герцен недаром сказал: «Мы не врачи, мы боль». Вот Достоевский — боль, а Набоков — врач, доктор, прописывает рецепты, где много картонного, вымученного, из пальца высосанного (кроме «Защиты Лужина» и «Лолиты»).
Впрочем, возможно, я просто невежа. Да и не всё читал его. А какая его вещь тебе больше всего по душе?
АМ:— Ну, все «щины» сходятся к одному, здесь нет вопросов. Мне нравится больше всего русский период, практически весь. От «Машеньки» до «Камеры обскура».
Любимое поэтому трудно назвать. «Лужин», да. Рассказы — все. С английским периодом сложнее, что-то я читал в оригинале, что-то на русском.
«Пнин» очень понравился в оригинале, но, думаю, он и в переводе замечателен. Рекомендую, он ведь к тому же твой коллега — Пнин, да и вообще мне почему-то кажется, что тебе он понравится.
А вот другие романы на английском я прочувствовал не так сильно. С другой стороны, «Лолиту» я читал на русском, и она мне не очень понравилась, а все говорят, что в оригинале она несравнимо лучше…
Не знаю, Миша, я ни в чём не уверен, могу только иногда резонировать с чем-то, при условии, что там нет резонёрства, как-то так...
У нас ужасная погода, декабрьский дождь, только вот слякоти недостаёт слобожанской, а так что Мюнхен, что Харьков... Хотел сейчас ещё процитировать слова Пруста о Достоевском, не для того чтоб тебя позлить, а как пример другого взгляда на явление.
Но вспомнил, что цитировал это в «Серпантине». Так что воздержусь. Прозе нужны мысли, с этим никто не спорит, другое дело, нужна ли свободным мыслям проза?
МГ:— Мыслям нужна проза, чтобы они могли извлекать из неё опыт, получать ощущения диалога с умными людьми/гениями, чтобы мысли под влиянием прозы начали шевелиться, осмысливать не только ту черепную коробку, в которую заключён Душедух (или Духодуша), но и тот мир, в котором эта черепная коробка бродит, подчас не понимая, где она и что с ней…
Недавно я дал одному товарищу-художнику, который ныл, хандрил, депрессировал и хотел повеситься, «Житие» протопопа Аввакума, и он, прочитав это великое произведение, ожил и сказал: «Да мы все по-царски живём! Что с людьми было — и ничего, терпели и жили, а мы?.. Нам вообще грех жаловаться!» — и вышел из депрессии.
Вот зачем мыслям нужна проза.
Проза по большому счёту — это убежище, где можно спрятаться от жизни (что многие и делают). Поэтому романы стоят в прозе на первом месте — мелкие формы не дают такого ощущения перемещённости в иное бытие (инобытие), как роман, который втягивает читателя под свои своды, засасывает в воронку, берёт под своё крыло и покровительство.
В этом смысле привыкание к прозе будет почище героина, водки или порно, когда мысли привыкают жить в вымышленном виртуальном мире.
Но порно надоедает, героин, при неизбежном повышении доз, перестаёт давать кайф, водка разлагает организм, а проза предоставляет всё новые и новые модели (или использует старые, недаром люди по много раз перечитывают одни и те же вещи, окунаться в которые им нравится).
Мыслям нужна проза, чтобы улыбаться, нежиться и получать удовольствие, как я вчера получил от твоей грациозной и немного печальной повести «Дважды два», где очень хорош рассказчик, несколько отлично сделанных эпизодов.
И математические названия, которые меня буквально завораживали. Здесь я нашёл хорошее умение писать лёгкими мазками и чувство меры (чего многим, и мне, наверное, не хватает).
Что ж, «широк человек, сузить бы»… По мне — так лучше широк и горяч, чем узок и тёпел…
Открытая концовка повести переводит всё в символический план, и читатель понимает, что на самом деле рассказчик ищет самого себя. Отличный ход!
По большому счёту, тебе повезло, что ты не гуманитарий, из гуманитариев редко вырабатываются стоящие писатели… Вот и я бы хотел забыть всё, что прочёл.
А вот вопрос на засыпку: нужны ли мысли поэзии? Вопрос не праздный, если вспомнить модернистов и всяческие баталии по теме «искусство для искусства». Как считаешь?
АМ:— Ну да, вспоминается пушкинское «поэзия должна быть глуповата». И ещё времена, когда физики снисходительно говорили о гуманитариях: «Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум».
Но в чём засыпка-то? Конечно, нужны мысли. Поэзия и есть мысль. Кто-то, по-моему, Пастернак, говорил о Шекспире, что стихи были для него просто самым быстрым способом записи мысли, скорописью, я цитирую не дословно, но вот не поленюсь привести другую цитату уже точно.
Бродский в нобелевской речи: «Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихотворение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом».
Привёл эти слова ещё и потому, что ты перед этим тоже говорил о зависимости, только от прозы, ну да, каждый о своём… Стало быть, поэзия, мысль…
«Литература — это воплощённое сознание», говорила Зонтаг, «изменённое сознание», говоришь ты, лучше, чем наркотик, better than the real thing…
Вспоминается тогда уже «Достоевский-трип», где одно не противопоставляют другому…
МГ:— Но Сталин бы спросил: «Вот вы говорите — Бродский, Зонтаг, Набоков… А что думает по этому вопросу сам товарищ Мильштейн, лично? Поэзия есть мысль? А мысль — поэзия?.. Но это же трюизмы и реверсы, товарищ Мильштейн».
АМ:— Да, согласен, но мне кажется, что не я это начал, давай сойдём с этого трека вообще, «что лучше, пена или дом, давай-ка вместе поразмыслим, тогда дай бог, все наши мысли исчезнут в небе голубом» (Б.Г.) и т.п.
Мой вопрос о том, нужна ли мысли проза, был скорее ответом в виде вопроса на вопрос, не предполагавшим дальнейшей дискуссии в духе переливания из пустого в порожнее.
Ясно, что в каком-то состоянии сознания проза мысли не нужна. Мне по крайней мере это ясно. Но люди пока что живут не в таком состоянии сознания, и, я думаю, так будет ещё какое-то время продолжаться, так что не оставляйте стараний, маэстро.
МГ:— Если поэзия вся построена на одном ударном слове или словосочетании, на всполохе (о чём и Бродский говорит), то зачем тогда вся остальная масса слов?.. Это то же самое, что ратовать за оргазм без траха: важен ведь процесс.
АМ:— «Важен сам процесс» ассоциируется скорее с «трахом без оргазма» и с анекдотом о китайском сексе, который рассказывает Николсон в каком-то старом фильме, кажется, «Почтальон всегда звонит дважды»… Но, прости, что прерываю… Да, так что?
МГ:— В прозе тоже есть прорывы, но они подготовлены всей прозой, и читатель вдруг сам начинает «прорываться» и допетривать. И это действует на него сильнее, чем если это сделает за него сам поэт.
Впрочем, может быть, ты и прав, как Будда, который указывает, что есть два пути — длинный, путь обретения знания (или сознания), и короткий, путь прорыва к этому знанию.
Вот ломовая проза — это длинный путь, а поэзия — короткий. Недавно один скрипач подал в суд: что-де он играет весь вечер и получает столько-то, а барабанщик ухнет пару раз за весь вечер в свои причиндалы и получает столько же. Несправедливо. Вот скрипач — это прозаик, а барабанщик — поэт.
АМ:— Прости, Миша, но, по-моему, ты сейчас невольно пересказал другой анекдот, старый советский, о симфоническом концерте для ветеранов КГБ, не буду повторять весь, кончается же он словами: «Партия у нас одна, и стучать для неё нужно постоянно», — это говорит после концерта старый чекист барабанщику.
МГ:— Какие-то умные люди сформулировали, что в мире есть только одно искусство — это поэзия, в широком, разумеется, смысле, с чем нельзя не согласиться.
Я это так понимаю, что флёр поэзии придаёт самым обыденным вещам новое измерение и видение (и писсуар Дюшана тоже был, без сомнения, поэтическим актом).
Да, поэзия должна быть глуповатой (скорее наивноватой, простодушноватой), но вот насколько?.. Некоторые считают, что лучше пусть совсем будет идиоткой — юродивые всегда оригинальны.
АМ:— Тут вспоминаются слова Александра Гнилицкого, замечательного художника, который, к сожалению, недавно ушёл из жизни: «Живопись как та блондинка, которая хочет быть не только красивой, но и умной»…
Поэзия — это та проза, что хочет быть не только умной, но и красивой? Да вроде нет, не совсем, проза так часто и сама по себе хочет быть красоткой. Плохо только, если при этом становится кокеткой…
В общем, я не уверен, что есть чёткая грань. Хотя может быть, как раз то, что ты её видишь и с поэзией в каком-то смысле враждуешь, подтверждает лишний раз, что ты настоящий прозаик, Миша. Без дураков.
МГ:— Вопрос на засыпку: если у поэта возникает альтернатива — пожертвовать мыслью / идеей ради блестящей рифмы/слова, ради «красного словца», ради изюминки, то что он предпочтёт?..
Ведь стих без красного словца — что женщина без тела. Не будь у женщин тела, кто бы с ними возился?.. Кто бы выносил этих вздорных и взбалмошных существ?.. Так и стих — без ударной строки он пуст.
И вот за эту ударную строку поэт и продаёт свою душу дьяволу (живущему, как известно, в деталях) в том смысле, что может пожертвовать чем угодно, лишь бы рифма въелась в мозг людей.
И если рисунки талантливой обезьяны из Токио стоят бешеных денег, то не будет ли стих, скажем, поэтически одарённого гениального соловья или попугая, блестяще вяжущего рифмы, считаться верхом совершенства?
Сейчас в газете прочёл заметку, от которой волосы дыбом встали. Вот как бы поэт осмыслил это?
Потому что хотел есть
Суд Сергиевского района Самарской области признал местного жителя Сергея Гаврилова виновным в убийстве своей матери и приговорил его к 14 годам и трём месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Рецидивист не только убил собственную мать, но ещё и некоторое время питался её останками.
Съели из ревности
Следователи Перми разбираются с тремя бомжами, чьим местом жительства была землянка в местном лесу.
В ночь на 6 ноября 2009 года дружная компания ножами и молотками убила своего 25-летнего приятеля. Как они позже объяснили следователям, причиной убийства стала ревность: несчастный поглядывал на подругу одного из будущих убийц.
Труп разделили. Часть мяса закопали в землю про запас, из другой части приготовили ужин на всю землянку, оставшееся продали в соседний киоск, где готовили шаурму и пирожки.
Об убийстве стало известно через три дня. И проверка мяса в злополучном киоске не дала пока никаких результатов. Хотя, возможно, его уже просто съели.
АМ:— У тебя есть рассказ в «Тайнописи» о каннибале, жившем в одном из сталинских лагерей. Сильный рассказ, очень, и ты теперь, по-видимому, хочешь сказать, что в свою очередь «съесть» каннибала может только проза, а поэзии такое не по зубам.
Не знаю, для меня граница очень условна в принципе, да и не только для меня, с детства для нас как бы и поэма «Мёртвые души», и «Онегин» — роман…
Да, но, раз ты призываешь меня не прятаться за другими именами… давай уже я приведу автоцитату, там как-то всё вместе, по теме, вот этот отрывок, он печатался когда-то в журнале «НАШ», в их «гонзо-панораме».
Я наложил газетную заметку на свои впечатления от одной инсталляции Фишли и Вайса, представлявшей собой полёт по бесконечной трубе под жуткий скрежет и грохот:
«…я смотрел на другие лица, я не видел на них особого восхищения, но и негодования тоже не видел. Грохот, бесконечное падение в канализационную трубу, сросшуюся с прямой кишкой... В тот же день, в пятницу, суд над каннибалом вынес своё решение: восемь лет. По прогнозам многих журналистов, каннибал может выйти на свободу реально уже через 4,5 года, учитывая его примерное поведение. Четыреста человек изъявили желание быть съеденными, когда он поместил своё объявление в интернете. Он выбрал одного. Выйдя на свободу, он сможет продолжить... Конечно, над ним будет надзор, видеокамера... Но кто знает, не упадёт ли она в ту же бесконечную трубу... Судьи проявили к нему явную симпатию, приняв сторону не прокурора, а адвоката. О чём после этого говорить, что писать? О трубе, в которую проваливается видеокамера, о скрежете зубовном, о канализации, о каннибализме... Зачем?»
Потом это вошло в роман «Параллельная акция», который ещё только должен выйти, хотя написал я его давно, ещё до песни Раммштайна «Часть меня», где они превратили в поэзию статьи о «каннибале из Ротенбурга» (у меня нет сомнения, что некоторые тексты, выходящие из-под пера их вокалиста Тиля Линдемана, — это настоящая поэзия), а потом уже положили на музыку.
Так что получается, что поэзии тоже всё по зубам, да и вообще мне ли напоминать тебе, что древнее, что первичнее.
МГ:— В связи с этим назревает вопрос: что такое искусство? Понимаю, что вопрос безответный: для одного искусство — арии Доницетти, для другого — барабанный бой тамтамистов из Мали.
Я думаю, что если брать широко, то искусство — это то, чего раньше не было, а сейчас есть. До Микеланджело не было Давида в мраморе, а сейчас есть. До Кафки не было «Превращения», а сейчас есть.
А зачем оно нужно?.. А зачем нужен дуб или озеро? Есть — и всё. Ну, и люди интересуются, ищут — им, кроме хлеба и вагины-пениса, надо ещё что-то.
А художники и писатели, как более глубоко чувствующие особи, испытывают давление и депрессию от деструкции и деформации мира вдвойне и втройне, пытаются создать свои макеты и модельки — иначе протестовать и бороться с неизвестным Богом они не могут.
Поэтому державинская амплитуда «я бог, я червь» универсальна для всех творцов, которые то летят вверх, то, сброшенные, валятся вниз…
Вот в связи с этим вверх-вниз хочу вернуться к ПИНОКТИКО и — шире — к тому типу рассказчика, который ты так удачно варьируешь и применяешь. Насколько рассказчик этот автобиографичен? Похож ли ты в жизни на него?
АМ:— Мне кажется, что похож, но… я могу ошибаться: я это знаю после такого случая: написал когда-то повесть «Дважды один» (о которой ты уже говорил) от лица, как мне казалось, моего антипода, который там меня же, такого то есть, как я себе сам себя представляю, высмеивает и всячески гнобит…
И вот потом первый же читатель, человек, которому я доверяю как художнику, сказал, что я очень похож на рассказчика.
«Как? — удивился я, — разве не ясно, что я другой, второй, пропавший без вести брат?»
Ну, это повесть о двух братьях, один из которых умный, а второй… писатель. И вот этот мой друг доказывал мне, что я не тот, а как раз вот этот.
Это было смешно, и я не уверен, что он прав, всё-таки глаз у него больше намётан на внешнее, но неважно, это просто как пример того, что мы можем иметь не самые адекватные представления о себе, поэтому трудно судить, насколько Ich (Я) мой Ich-Erz?hler.
Повторю: мне-то кажется, что похож. Что касается «державинской амплитуды» и твоих последних рассуждений об искусстве, я не могу об этом говорить на достойном теоретическом уровне.
Вот есть книги Гройса, Слотердайка и компании, есть кому на эту тему думать, «найдётся кто-то, кто мне всё расскажет».
Я же могу только описывать свои личные впечатления от той или иной «трубы».
Кстати, потом видел инсталляцию тех же Фишли и Вайса, где были такие огромные детские горки, как в парках, но они стояли в павильоне, и можно было по ним съезжать с ветерком.
МГ:— И что это обозначает?.. Что все люди — дети, летят по жёлобу жизни вниз?.. Без него знаем, сами каждый день летим, даже не с ветерком, а с ураганом в спину…
Сейчас, когда искусством называют что угодно, развелось много всяких шарлатанов и аферистов, делающих умный вид и несущих всякий бред, который воспринимается поклонниками как великие откровения Заратустры…
АМ:— «Швейцарские горки» вспомнил только потому, что связалось в голове с той «трубой», ну то был вообще такой «бобслей к центру Земли», а тут уже попустило и возник детский аттракцион как кунштюк, вообще же их инсталляции (Фишли и Вайса) намного разнообразнее, конечно, и при этом нарративны, но это отдельный длинный разговор…
Вспомню только, чтобы закрыть эту тему, определение, которое дал современному искусству один его представитель: «Это, с одной стороны, цирк, с другой — секта».
По-моему, весьма точно, и «дети там летят по жёлобу жизни» и «поклонники считывают откровения Заратустры», хотя Джонатан Мизе подразумевал, я думаю, ещё и специфические отношения внутри этой «секты».
Впрочем, как и внутри любой другой.
МГ:— Вот вопрос рассказчика интересен. С высшей точки зрения ты и тот, кто рассказывает «Дважды два».
АМ:— Не «Дважды два», хотя оговорка очень хороша, она напомнила мне о… квантовой механике.
В романе Милорада Павича «Пейзаж, нарисованный чаем» есть такой замечательный вложенный текст-анекдот о русском физике, который доказывает, что дважды два — не всегда четыре, как раз с помощью квантовой механики, это напомнило мне предыдущий мой «занос не в ту степь»…
Да, но всё же: «Дважды один», а не «Дважды два».
МГ:— Хорошо. С высшей точки зрения ты и тот, кто рассказывает, и тот, которого ищут, и те два типа, что погрызлись в автобусе, и вообще каждая точка и каждая выпитая чашка кофе в этом тексте, ибо творец разлит везде и во всём (так и Достоевский, и Макар Девушкин, и Свидригайлов, и все Карамазовы, и топор Раскольникова).
Но если сузить проблему до рассказчика, то от него зависит всё: если неправильно выбран тон, то читатель начинает не верить ему, и постепенно эта пелена неверия настолько застилает ему глаза, что он бросает книгу.
Впрочем, отбросить книгу может заставить и правда, которая ослепляет. Один бывший советский майор, читая моего ТОЛМАЧА, отшвырнул книгу на пол и стал пинать ногами с криком: «Не может быть! Нет! Он издевается над нами! Он врёт!»
Очевидно, какая-то молния пробила его заскорузлый мозг, осветила всю его жизнь, и ничего более, как «он врёт, издевается», в оправдание своей, очевидно, нелепо прожитой жизни он выкрикнуть не смог.
При чтении твоих писем мне в голову приходит ПИНОКТИКО: некоторые пассажи из них очень напоминают пассажи рассказчика своей зыбкостью, неопределённостью, иногда осторожным мерцанием.
Что это? Слияние рассказчика с творцом?.. Кукла ли пародирует кукловода? Или кукловод попадает (или подпадает) под обаяние куклы? Как происходит (или происходило) взаимодействие?
АМ:— Я думал, что я уже ответил, поэтому даже уточнил у тебя, не забыл ли ты ответ на первый вопрос. Но ты сказал, что нет, что, с твоей точки зрения, я не раскрыл тему и что Каспар Хаузер тоже пришёл и ничего не объяснил…
Ну, может быть, само имя его, столь созвучное с Kasperle, Kasperle Thеater, «кукольный театр», вызвало твой вопрос о кукле и кукловоде.
Я не буду ссылаться на теорему Гёделя о неполноте, не буду и вспоминать подробно свою раннюю повесть «Автор и исполнитель», цитату из которой, впрочем, я уже приводил: о токе и лампочке.
Но само её название, повести, говорит о том, что эта проблема меня когда-то занимала, только это было так давно…
Конечно, тему я там не закрыл — она бесконечна, просто мне хватило: если бы я был силён в таких вопросах, занимался бы математикой или составлял на худой конец программы с использованием рекурсивных функций, с помощью них, наверно, можно было бы смоделировать систему «автор — исполнитель», но я, можно сказать, ушёл в несознанку.
В прозу я прохожу через свои ворота — своего восприятия, но дальше не ворочу, что хочу, а плыву по течению, правда, оно часто бывает подводным, и всё время есть опасность, что никто, кроме меня, его не увидит и не ощутит.
Поэтому то, что это кто-то ещё, кроме меня, воспринимает, я воспринимаю в свою очередь как чудо.
Я ответил, по-моему, в основном на то, что касается «зыбкости и неопределённости». Но из этого можно попробовать сделать вывод о том, кто на кого влияет, так как «мерцание» возникло до «Пиноктико» и не ушло вместе с ним, то, как ни крути, кукловод влияет на куклу. По крайней мере мне так кажется.
Большего я не могу знать, может быть, я путаю причину и следствие. Может быть, потому я и стал так писать — ещё в предыдущем романе, — что оживала эта кукла, и теперь она вовсе не «снята с нити длинной и вместо тряпок сложена в сундук», а продолжает мной водить.
Потому что вопреки своему желанию писать дальше так, как раньше, как это было в моей первой книге «Школа кибернетики» (то есть «управления», кстати), я пока не могу уйти от этих ниточек-предложений, слегка прорезиненных, как нитка игрушки «йо-йо»…
Вот так пока это всё раскачивается. Как ты пришёл к своим точёным точным фразам, когда возникло желание отбрасывать всё лишнее, ты говорил, что выбрасывал из «Чёртова колеса» огромное количество описаний и ещё чего-то…
Чего, кстати? Что ты выбрасываешь теперь из прозы в первую очередь?
МГ:— На каком-то этапе я попал под влияние дневников и последних вещей Толстого (из самых последних, вроде детских книг для чтения, переработок сказок и легенд), где он почти отказывается от прилагательных, наречий и т.д., оставляя только связку «существительное + глагол».
Толстой полагал, очевидно, что этого голой правде достаточно, а всё остальное — от лукавого (который, как известно, таится в деталях).
И мне стало как-то стыдно плести словеса там, где хватает самых простых слов, захотелось писать голую прозу типа библейской.
Результатом были «Повести стрелкина» (в «Тайнописи»). Это потом они опять (до этого догола раздетые), во время переработок, обрели некоторые определения и краски.
Потом я понял, что так можно дойти до абсурда, и искусство не может не иметь одежды — один скелет-костяк-остов пугающ и слишком прямолинеен, в жизни есть и полутона, и оттенки, в которых подчас и скрывается самое главное.
А может быть, и скучно стало. Но страсть к лаконизму и отвращение к развесистым текстам осталась.
Я по много раз обтачиваю фразу. Вначале пишу ручкой на бумаге, перепечатываю, даю отлежаться, чем больше, тем лучше, чтобы забыть этот текст.
Потом, уже новыми глазами, начинаю придирчиво вычитывать, убирая, где возможно, всяческие повторы, вылавливаю по инстинкту ненужные или лексически неуместные слова (особенно с этим надо быть осторожным, когда пишешь исторические вещи вроде «Вараввы» или «Луки» (есть в «Тайнописи»), там лексические несуразицы могут тут же сломать всё впечатление от текста).
Словом, убираю ненужное, по известной формуле скульптора «Над взять кусок мрамора и убрать всё лишнее», с той только лишь разницей, что скульптор не порождает мрамор, а берёт его у природы в глыбо-кусковом виде, а прозаику надо вначале эту глыбу родить, чтобы потом отреза?ть по-живому от тобою же рождённого детища…
Потом — опять отложить, затаиться, ждать… Раз по пять перерабатываю всё, что пишу. И выбрасываю всё то, что не имеет отношения к тексту.
Хотя тут большая опасность — пересушить текст, что, наверно, и бывает. Ну, волков бояться — в лес не ходить.
А пишу вообще мало, ибо ленив и могу целый день лежать на диване и слушать Арету Франклин, обдумывать что-то…
Или читать, бежать вслед за мыслью, которая бежит по строчкам, как электричество по проводам.
Примерно так же делаю и коллажи и объекты, которые ставлю куда выше, чем свою писанину. Таких вещей и объектов, какие я делаю, никто не делает, посмотри на моём веб-сайте www.m-gigolaschwili.de.
Люди, когда видят это, говорят: «Что это такое? Как это называется?» И этот вопрос уже хорош сам по себе. Это то, чего раньше не было, а сейчас есть.
А как работаешь ты? Как рождается первичный текст? Сколько раз обращаешься к тексту, переделываешь? Каковы вообще методы?
Бывают ли перерывы в писании? Есть писатели, которые ставят себе рамки: три страницы в день, к примеру. Я лично так не могу.
АМ:— Работаю по-разному, наплывами, иногда долго раскачиваюсь, прежде чем начать.
Иногда, уже начав, вместо того чтобы идти вперёд, всё время хожу по уже завоёванному участку вперёд и назад, так называемым ходом хлебопашца, и бывает, что долго так продолжается, прежде чем снова двинусь вперёд.
Поэтому трудно сказать, сколько раз обращаюсь к тексту, и даже не трудно, а просто невозможно. Это совсем другой процесс, чем тот, который получается, когда пишешь первый вариант на бумаге.
Вообще таких писателей, которые пишут на бумаге, я знаю всего двух, ты один из них. Это, похоже, никак не связано с возрастом, самые старшие мои знакомые пишут сразу на компьютере.
В общем, респект, в наше время это воспринимается как приятная такая архаика, ручная работа, и потом, как советовал кто-то, если завтра везде ток исчезнет (вот как у меня давеча после короткого замыкания), бумага останется, поэтому пишите хоть что-то на бумаге.
Кажется, это был совет от Мартина Эмиса. Но я так давно перешёл на безбумажное производство, что на бумаге могу теперь делать разве что заметки, ключевые слова будущего произведения могу записывать в столбик, одно из них ты и видел на листке блокнота, на котором я написал тебе свой телефон.
Компьютер таит в себе большую опасность. Кортасар писал где-то о таком ощущении, что когда он уходит из квартиры, машинка продолжает стучать сама по себе, и он поэтому может со спокойной совестью гулять по городу, смотреть на облака и т.д. (я не помню, в какой это книге, «Некто Лукас»?), а пришедший на смену пишущей машинке компьютер, скажем так, существенно увеличивает долю правды в этой шутке.
МГ:— Да, но вряд ли он в отсутствие поэта сможет написать что-нибудь стоящее (впрочем, кто знает, создадут базу рифм и будут их потом произвольно мешать, авось где-нибудь что-нибудь гениально совпадёт).
А вот хочу послать тебе одно стихотворение, встреченное недавно и врезавшееся в душу, сильная вещь Тимура Кибирова:
Их-то Господь — вон какой!
Он-то и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
Ведёт за собой правоверных строй!
И меч полумесяцем над головой,
И конь его мчит стрелой!
А наш-то, наш-то — гляди, сынок —
А наш-то на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.
А у тех-то Господь — он вон какой!
Он-то и впрямь дарует покой,
Дарует-вкушает вечный покой
Среди свистопляски мирской!
На страсти-мордасти махнув рукой,
В позе лотоса он осенён тишиной,
Осиян пустотой святой.
А наш-то, наш-то — увы, сынок —
А наш-то на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.
А у этих Господь — ого-го какой!
Он-то и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной
Давно под его пятой.
Виссон, багряница, венец златой!
Вкруг трона его весёлой гурьбой
— Эван эвоэ! — пляшет род людской.
Быть может, и мы с тобой.
Но наш-то, наш-то — не плачь, сынок —
Но наш-то на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.
На встречу со страшной смертью своей,
На встречу со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него не уйдёт,
Никуда не спрятаться ей!
АМ:— Прекрасное стихотворение. Пусть оно будет завершающим аккордом нашей беседы.